Бухтины вологодские завиральные - Страница 5

5
Я свою агитацию двигаю дальше: «Нам бы только до весны продержаться, а там пойдет пожар по всем странам. По хлебным». Слышу, половица скрипнула. «Будешь ходить в розовой кофте». Идет, отпирает. На всякий пожарный случай добавляю: «Ребят родишь, растить не придется. Всех на государство сдадим, сами…» Не надо было этого говорить! Договорить не успел, ногу в притвор сунуть не успел, ворота опять хлоп. Слышу прежнюю реплику: «Неси леший! Домой не являйся! Я свои дрова на горбу по снегу таскала. Иди от избы!» Ну, думаю, все дело пропало, второй раз не откроет.
Ночевать пошел к свату Андрею. Сват Андрей сидит на крылечке. Время четвертый час ночи. «Чево?» — говорю. «Да вот… вышел на свежий воздух». «Меня, — говорю, — тоже, это… Тоже вот покурить вышел!»
Устроили коллективный перекур на свежем воздухе.
Сдельная

Началась общеколхозная жизнь. Мою Виринею поставили в передовые доярки. Дали шестнадцать стельных коров. Я — на подвозе силосной массы. Только, бывало, подъезжаю к строенью, сразу кричу: «Виринея! Принимай груз!» Она уже бежит навстречу, от восторгу вся розовая. Навильники у нее только мелькают. Ущипнуть не успеешь, ведра уже брякают у реки. Сапоги иной раз не на ту ногу обует да весь день так и бегает. В стенгазете ее хвалят, на слет везут в тарантасе. К моему прискорбью, спать перебралась на ферму. Я как адъютант за ней следом. Дом на замке круглые сутки. Все бы ладно, да сват Андрей подсатанивает: «Ты, Кузьма, только не отелись, гляди. Дело ночное, ошибиться недолго». Терплю. Трудодни нам с Виринеей не идут, а валят гужом. Накопилось под самую тысячу. Конешно, почету много, а толку наплакал кот. Говорю Виринее: «Пшеничников не пекла с прошлогодней масленицы! Юбка на заднице держится святым духом — разве ладно?» — «Не твое дело, выхожу на большую дорогу!» Я и говорю: «Хорошо. Выходи. А мне надо платить налог, хозяйство записано на меня. Буду искать другой слой». Лошадь и сбрую передаю другому, складываю инструмент в котомку. Иду по деревням класть печи. В людях кормят как на убой, почету не меньше. Никто меня не торопит, под локоть не тычет. Утром чаю попью, фартук надену. Глину разведу теплой водой — осталась в самоваре. Кладу кирпичи да попеваю: «Во саду при долине». Сват Андрей мне завидует: «Тебе, Барахвостов, что, тебе полдела. Харч даровой, квартера готовая, возьми в помощники?» — «Иди». Он говорит: «Я бы пошел, да правленье не отпускает. Вставай, — говорят, — в пожарники, и точка». — «Встал?» — «Пока нет, ждут фуражку». Ладно. Живем дальше.
Один раз я в колхозном овине сложил хорошую печь. На совесть, по последнему слову техники. Печь — что фабрика. Жаркая, не дымная. Работает как часы, простоит сто годов без ремонта. Рассчитались со мной по самой высокой графе, деньги наличными. Шесть овинов хлеба высушили, вдруг является сват Андрей. В фуражке. Спрашивает бригадира: «Топится?» — «Как в аптеке». — «Разломать!» — «Почему?» — «Не разговаривать, даю сроку четыре часа!» — «Хорошая печь». — «Разломать! В противопожарном отношенье». Печь потушили, оглоблями разворотили. Зовут опять меня: «Барахвостов, клади!» Я склал, приходит сват Андрей, дает команду: «Разломать! Дым идет не туда. По инструкции дым должен идти в левую сторону. У вас дым прямо вверх шпарит!» Оне ломают, я кладу. Дело идет без остановки. Работаем. Сват на окладе, у меня сдельная. Говорю свату: «Долго таким свистоплясом жить будем?» — «Да тоже, — говорит, — поднадоело. А чего делать?» — «Не ломать. Остановиться». «Я, — говорит, — уж обращался к высшим инстанциям. Выполняй, — говорят, приказ и не рассуждай. Фуражка вам зря, что ли, выдана?» Я свату Андрею говорю в задумчивости: «Фуражка, оно конешно. Фуражка-то ладно, ты в ней как поручик. А я вон печи класть совсем разучился. Был печник как печник, стал неведомо кто».
Сват худому не научит

Да, право слово, совсем я разучился. В новой конторе склал печь, вышла очень угарная. Заседанье правления назначат — все члены через полчаса синие. От звону в ушах дребезжат стекла. Решенья принимают не те, бумаги путают. Все шишки на Барахвостова: «Ты уморил!» Я говорю: «Ребятушки, извините, пожалуйста, сам не знаю, как получилось». — «Откуда в ушах звон?» — «Не знаю». — «Мы тебя, так-перетак! Видать, захотел на даровые харчи!» Я мастерком об пол: «Кладите сами!»
Недоимок у Барахвостова нет, налоги платил первым. Одно худо — в чужих людях. Домой придешь — корова не доена, Виринея на ферме, ребятишек сбираешь, как пастух, по всей деревне. Один раз сел доить корову сам, своими личными руками. Корова от непривычки и возмущения без остановки машет хвостом. То по носу, то по глазам. Животное — что с нее взять? Я свата Андрея увидел, на жизнь жалуюсь: «Нет никакой силы-возможности! Доить пойдешь — корова хвостом машет. Все глаза выхлестала». — «Ты вот что, — сват говорит, — ты к хвосту-то кирпич привязывай, да потяжелее. Хвост-от у нее огнетет, она и не будет махать». Сват Андрей худому не научит. Вечером пошел доить, сделал все точь-в-точь. Кирпич привязал, начал чиркать. Как она даст мне по голове-то! Кирпичом-то! Поверишь — нет, а я полетел, будто шти пролил. Лежу на назьму в бессознательном виде, сам думаю: «Не надо было свата слушать, надо было думать своей головой».
Вывернулась
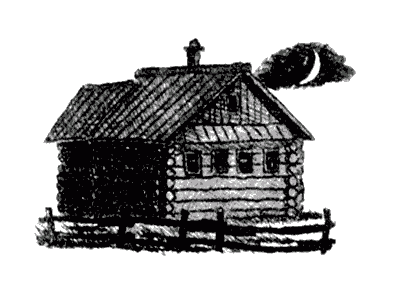
Я уже тебе говорил, что печи-то я сперва клал дородно. По всей окружности жилых деревень печи в домах стоят мои. Только себе не мог удосужиться сложить хорошую печь, топили по-черному. Дым идет под потолок, в спецдыру. Эта дыра называется чилисник. Бывало, замешкаешься, вовремя не закроешь — беда! Вся память, какая есть, вместе с теплом вылетает, остаешься при своих интересах. Со мной случалось такое дело много раз. Убей, ничего не помню, что было еще. В те годы. Помню только один случай. Как мы с Виринеей чуть-чуть не остались под открытым небом. При всех-то ребятишках. Летом забыли закрыть чилисник. А как раз поднялась гроза, пазгает во все стороны. Молния в чилисник-то и залетела. Залетела с огнем. Изба у меня враз загорелась. Огонь от грозы гасят коровьим молоком, знаешь сам. Простой воде этот огонь не под силу. У нас в ту пору коровы не было, только коза. Кричу свату Андрею: «Как думаешь, от козы погодится молоко огонь тушить?» Сват за ухом поскреб: «Ежели не больно жирное, так сойдет!» Ладно. Запрягаю, еду в поскотину, пастуху ставлю пол-литра. Так и так, животное требуется дома. Козу пулей привожу домой. Подоили, пожар в избе потушили. Еще бы немножко, крыша бы занялась. Видишь, как матица-то обгорела? Не видно, заклеила Виринея бумагой. Моя Виринея меня же и ругает, а я спрашиваю: «А чем корова лучше козы? Ведь будь тогда в нашем хозяйстве корова, разве бы я успел в телеге ее домой привезти? Да ни в жизнь! Эдакую-то тушу. Сидели бы, — говорю, — без квартеры, на чужих бы подворьях с ребятишками маялись». Баба есть женщина, женщиной она и останется. Недовольна. Говорит: «Чем козу держать, так лучше никого не держать. Молока доит по фунту, да и то козлом от него так и разит». От молока-то. «Почему я не слышу?» — «Потому, — говорит, — что куришь, вот и не слышишь». Вишь, как вывернулась. Вышла из положенья.

- Предыдущая
- 5 / 16
- Следующая